Элигий Ставский - Домой ▪ Все только начинается ▪ Дорога вся белая
Я считал ящики. Считал, когда по первому пути прошел из Польши еще один товарный, с углем, и на кучах угля, черные, вымазанные и улыбающиеся, сидели солдаты и даже офицеры с золотыми погонами, а рядом лежали их вещевые мешки и чемоданы. Они ехали домой. Считал, когда грузчики сели под тополем, развалясь как хотели, и резали большие красные помидоры, считал, незаметно дергая решетку, чтобы узнать, крепкая ли она, и считал даже тогда, когда пришел пограничник, строгий и холодно-вежливый, в сапогах, которые были как зеркало, и увел меня одного «на разговор к начальнику».
- Ну что, будешь говорить? — За эти несколько часов Маковка точно пожелтел. — Поесть-то себе купили?
Он по-прежнему втягивал в себя воздух, держался за щеку, и, наверное, потому я его не боялся.
- Мы муку приехали купить. Вот и все, — ответил я.
- Такой хороший парень, а врешь. — На лице Маковки появилась улыбка. — Врешь.
- Мы муку приехали купить. Нам через пять дней в школу. Разве мы знали...
Наверное, я разговаривал с ним чуть грубо, потому что он вдруг скользнул по моему лицу глазами и задумался. Потом спросил быстро:
- В Ленинграде?
- Сказали же мы.
- В школе?
- Ну да. А сюда приехали муку купить.
Маковка засмеялся:
- А я думал, вы уже убежали. Вот, думаю, мать честная, убегут еще. А потом думаю: куда? — И лицо его снова стало серьезным.
- В Ленинград.
- Мы все проверим, Геннадий, понимаешь? Мы должны это сделать, — и, сев на край стола, так что его колени были у меня перед грудью, он приподнял мою голову за подбородок. — А учишься как?
И тут я почувствовал себя как-то смутно, напряженно, неуверенно, забыл о своем достоинстве. У него были крепкие пальцы, и пахли они табаком.
- С кем живешь, спрашиваю? Отец есть?
- Погиб.
- А мать?
- Умерла во время блокады.
Одно окно было освещено солнцем ослепительно и резко, желтое, все накаляющееся пятно, как будто открытая дверца печи и там жар от хорошо сгоревших березовых поленьев, такой жар, что надо отворачивать лицо, надо закрыть глаза, а потом глотнуть воздух пли впиться зубами в кислое яблоко, от которого онемеют скулы. Есть такие кислые яблоки, как лимон. Даже кислее. Есть такие яблоки.
- А с кем же ты живешь? — донесся голос Маковки.
- А вот с ним. У него и отец и мать. С ними... Давно уже с ними... У них...
Больше я не мог говорить, не мог разжать рта. Меня душило, и меня больше не было. Я похоронил маму четырнадцатого января сорок второго года. Завернул в простыню, положил на саночки и отвез на кладбище. А умерла она девятого, совсем ранним утром, когда окно еще было серым. Пять дней я сидел возле нее, умолял и упрашивал. И складывал возле нее, прямо на подушку, на которой она лежала, квадратные кусочки хлеба. Я сказал ей все лучшие слова, которые были на свете, и даже молился богу, стоя возле нее на коленях. Но бога не было. Он должен был меня услышать. А была только наша комната, холодная, немая коробка, похожая на склеп, два окна, заросшие льдом, старое изъеденное жучком пианино, за которым так часто сидела мама в своем белом, самом любимом платье и, откинув голову, закрыв глаза, играла и вслушивалась в музыку, придуманную ею же самой, был черный вертящийся стул, мы не сожгли его, берегли, была сине-белая высокая кафельная печь, и был далекий грохот от снарядов, рвавшихся где-то на Петроградской. И все на свете было бесполезным и далеким и совершенно ненужным. Мама знала, что умрет. В последнюю ночь - и после этого я боюсь ночей, не хочу, чтобы, они приходили, — она сказала мне: «ПРОЖИВЕШЬ, НИЧЕГО. ВОКРУГ ЛЮДИ», и снова сказала, чтобы я не хоронил ее. Я нашел чистую простыню, широкую, полотняную, расстелил ее на полу. Холодную, чистую, белую, большую, огромную. У мамы пальцы на ногах были тонкие, маленькие. А рост как у девочки. Совсем как у девочки. Мама моя... Мама... И волосы за эти несколько месяцев все до одного поседели... Я вез ее на кладбище целый день. Тянул санки, низенькие, желтые, которые она мне купила перед войной, и боялся обернуться... Мама моя, мама. Так ты... Это ты... По белой улице, по синей улице...
А Вилька жил в одном доме со мной, только площадкой выше. Они взяли меня к себе... На январь у меня еще оставалась мамина карточка, а потом хлеба стали давать больше...
- Ах вы, дряни такие! — Маковка сидел, скрестив руки на груди, и голова его, круглая, несуразно большая, качалась, как от ветра. — А кто отец у него?
- Бухгалтер.
- А мать?
- Санитарка. Ей трудно с нами. Мы хотели купить муку.
Маковка смотрел на меня в упор. Кобура, висевшая у него на бедре, была расстегнута. От нее пахло кожей.
- А если мы пошлем запрос в Ленинград? Ну тогда что? А? Что тогда? — И, положив руки на колени, ожидал, нервно постукивая пальцами. — А, Геннадий?
- Мы не пойдем в тюрьму. Ничего такого не сделали.
Маковка встал. На стене висела карта, закрытая черной шторкой.
- Так вот мы послали. Я жду телеграмму. Дряни вы такие. Можно подумать, что еще на вас у меня есть время. Шпана просто. И вино покупали. Ириски бы ели, — и отвернулся к окну.
Мне показалось, что он думал о чем-то другом. Стоял, покачиваясь, и палил свои фразы без всякой злости, буя-то по инерции. Я молчал.
- Ну, если не семь, так три. Я вам это устрою. И без телеграммы все узнаю. Меня для этого держат на свете.
Я посмотрел на него.
- Да, узнаю, — повторил он, точно разогревая самого себя, открыл дверь и позвал пограничника.
На этот раз мы не пошли по коридорам, а повернули налево, опустившись по трем ступенькам, и оказались в том зале, где стояли скамейки и утром спал железнодорожник. Значит, если выйти из камеры, можно было миновать кабинет Маковки. Для меня это было неожиданностью. И лучше бы я этого не знал. В зале было много людей. Некоторые стояли у кассы, другие бродили от нечего делать. Теперь буфет был открыт. Несколько человек смотрело мне вслед, заметив, что я иду перед пограничником чересчур спокойно, подчеркнуто безразлично. А я краем глаза видел, что в буфете продают булку и копченую селедку, жирную, золотистую. И оттого, что я смотрел на буфет и даже невольно сделал шаг в ту сторону, пограничник вдруг оказался с другой стороны лавки. Если он и был выше меня ростом, то чуть-чуть, и не то казах, не то монгол, коротконогий и медлительный, и мне показалось, неповоротливый. Теперь ему надо было обойти лавку, а мне стоило сделать только один прыжок в сторону, чтобы между нами оказалась еще одна лавка, — и дальше - дверь на перрон, где стояли товарные вагоны, где был дубовый лес и там - тропинки, и ветер, и теплая сухая земля. Мимо старухи с баулом, мимо девочки с голубым бантом, потом за угол и к рыночному навесу, выделывая петли, если он начнет стрелять, падая и вставая, а в лесу прячась за стволами. А вечером или ночью - на товарный и зарыться в уголь... Я остановился.
- Куда? — Загорелое лицо пограничника стало бледнее. — Вперед!
Я стоял и смотрел на пограничника и мимо него. Вилька никогда бы не простил мне этого. А кто у меня еще был на свете?
- Вперед!
- Я и так - вперед.
«Ну и что?» - спросил меня Вилька глазами, сидя все в той же позе под окном с решеткой и прислонившись к стене. Мне нечего ему было сказать.
- Лебедев, пойдем! — приказал пограничник.
Вилька поднялся, внимательно посмотрел на меня и ушел. Замок в двери хрустнул.
Я долго стоял, глядя в окно и ожидая Вильку, прислушиваясь к любому шагу за дверью. Снова синело небо. Прогромыхал еще один пассажирский. С платформы исчезли ящики. И все это выглядело нереально, как во сне. Весь этот день казался каким-то наворотом света, теней, далеких и близких голосов, проваливающихся куда-то паровозов, летающих по воздуху ящиков, поблескивающих хромовых сапог и запыленных туфель, ботинок, сандалий.
- Ничего. Просто он кричал на меня, — сказал, вернувшись, Вилька. — А я молчал.
Он пришел слишком напряженный, собранный, глаза прищурены, и был похож на себя в день экзамена, когда к нему лучше было не приставать.
- Все равно убежим. Не сейчас, так потом. — Достав газету, разгладив ее, он вынул кулек с остатками бобов: — Ешь. Ничего такого. Есть все равно надо.
Мы жевали сухие, мучнистые бобы машинально, не чувствуя вкуса. Потом он сказал задумчиво:
- Что, интересно, дома сейчас делается? Пробки, может, перегорели? Как думаешь? Отцу-то не починить.
- Угу.
Когда вползли сумерки и стали ясно слышны самые далекие звуки, нам было уже совсем нехорошо. Мы вдруг осознали, что вот так могут проходить дни и даже годы, и что на земле есть вещи сильнее и грубее наших чувств и что вот так можно встречать рассветы и закаты, которые все равно будут...
Я свернулся под стеной. Вилька постарался накрыть всего меня пиджаком, отдал мне газету, а сам лег прямо на пол.
- Температура?
- Нет, — я поднял голову. — Ни за что, Виля.
Вилька усмехнулся.
- Ну, хорошо. Вот так бы всегда.
Чинили путь, где-то совсем рядом цокали молотки. Из нашего окна, однако, нельзя было увидеть, где это. Долго, звонко и весело пела на ночь какая-то птица. Почернел даже потолок, стал опускаться ниже. И постепенно растворились, пропали стены. Теперь мы лежали просто на земле, среди земли. Птица все пела, напоминая о жизни. Ночь будет тянуться медленно. И я знал, что Вилька тоже не заснет. К тому же еще что-то скреблось под полом. Потом незаметно забрезжит, все начнет проявляться, как на фотопластинке, все серое станет темнее, резче, наконец возникнет желтый свет, скупой и размазанный, мы всё так же будем лежать на этом полу, прижавшись друг к другу, но все равно вместе. И на следующий день тоже вместе, что бы ни случилось.

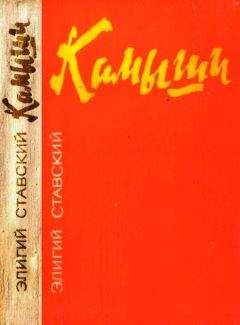

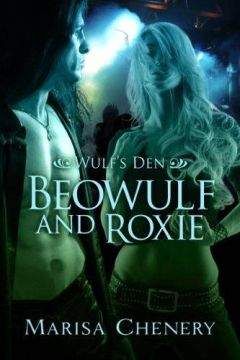
![Светлана Чистякова - Наследники Падших Книга вторая Трудно признать [CИ]](/uploads/posts/books/3156/3156.jpg)